модуль образовательной программы "психотерапия бытия"
Философия бытия.
Феноменологическая онтология Хайдеггера
Михайловский Александр Владиславович
Основные темы модуля:
Занятие 1. Мартин Хайдеггер. Бытие, Лес и Поворот
Философские вопросы человека: «Что мы должны делать? Кто мы есть? Почему мы должны быть? Что есть сущее? Почему свершается бытие?».
Проблема понимания и злоупотребления Dasein – «Qui me non nisi editis novit, non me novit». Почему Хайдеггера не интересовало персонологическое «Я».
Феноменология Леса как феноменология мироздания и человека в мире. Хайдеггер – философ на лесной тропе. Лес и сельский мир в «Бытии и времени» и в эссе «Творческий ландшафт. Почему мы остаемся в провинции», «Проселок». Общие тропы в русской и австро-германской «лесистой» мысли и словесности.
Внутренний поворот к бытию – поворот собственной личной истории и/или метанойя?
Занятие 2. Мартин Хайдеггер. Истина, одиночество и молчание
Концепция истины как непотаенности, пребывание в открытости бытия.
Фундаментальные константы «опыта жизнемысли»:
- Уединенность\Одиночество (Einsamkeit)
- Сердечность переживания - живая корреляция мысли и бытия, которая выражается в интенсивности и сердечности переживания (Innigkeit) и укорененности в бытии (Inständigkeit im Seyn)
- Молчание (Schweigen)
- Собранность (Sammlung)
Забывание бытия. Необходимость вернуться к себе.
Занятие 3. Уход в Лес. Эрнст Юнгер и другие мыслители
Юнгер: бытийные и лесистые мотивы в дневниках и Уход в Лес.
Хайдеггер и Юнгер: близость, несостоявшаяся конкуренция, взаимодополняемость в прозорливости и в увиденном.
Проблема техники и мегаполисов.
Выбор как самообман и философия личного поступка.
Уход в Лес (Заточение – Решение – Побег).
Занятие 4. Продолжение. Уход в Лес в христианстве и литературе. Прототипичность опыта и переживания в личном переживании современного человека. Поворот бытия
«Уход в Лес» в русской и австро-германской литературе. Пришвин, Штифтер и др.
Уход в Лес – Сад – невидимый Город.
Монашество, скиты, мистицизм, исихазм – побег\поворот к бытию?
Поэзия и искусство.
Следование зову бытия\ персональному посланию. Собирание себя. Озарение.
«Поворот» как узнаваемый личный опыт.
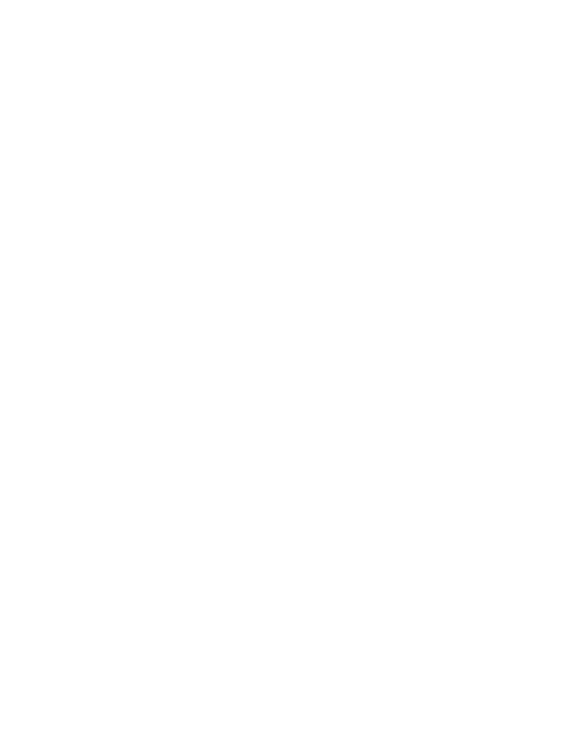
Курс лекций предоставит возможность познакомиться со значимыми для психологии бытия и при этом, вероятно, не самыми известными в среде психологов и психотерапевтов идеями Мартина Хайдеггера и других мыслителей. Мы также обратимся к "классическим" концептам Хайдеггера и попробуем увидеть их в несколько новом ракурсе.
Модуль предполагает работу с текстами.
Обсуждения - пространство для перевода философских категорий в русло психологического понимания, интерпретации, инструментализации и практики, осмысления собственного опыта - отчасти имеют место в русле лекций, и в наибольшей степени на занятиях курса "Психология и психотерапия бытия".
Ведущий:
Михайловский Александр Владиславович – доктор философских наук, доцент Факультета гуманитарных наук Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики». В 2002 г. защитил кандидатскую диссертацию в РГГУ на тему «Вопрос о технике. Критика эпохи у Э. Юнгера и М. Хайдеггера». Стажировался в Швейцарии, Германии и Австрии. Член редколлегий журналов «Сократ», «Ежегодник по феноменологической философии», «Философия. Журнал Высшей школы экономики», «Jünger-Debatte», «Сarl-Schmitt-Studien». Соучредитель «Платоновского философского общества», член международного «Общества братьев Эрнста и Фридриха Георга Юнгеров», член научного совета Academia Kantiana (БФУ им. Канта). Ответственный редактор коллективной монографии «Субъективность и идентичность» (М.: ВШЭ, 2012) и редактор «Платоновского сборника» (Т. 1-2. М.-СПб.: РГГУ-РХГА, 2013). Автор статей по истории античной философии, феноменологии и герменевтике, политической философии и интеллектуальной истории Германии и России XX века. Активно занимается переводческой деятельностью: перевел и снабдил комментариями тексты Э. Юнгера, св. Василия Великого, В. Дильтея, М. Вебера и других авторов. Автор публикаций на русском, английском и немецком языках, основная тематика которых политическая философия, патристика, проблемы консервативной революции, философия техники и др. Его авторские курсы посвящены философии техники, изучению отдельных произведений Платона, Плотина, а также отдельному направлению современной философии — философской герменевтике.
ОТЗЫВЫ
А. В. Михайловский
"Мартин Хайдеггер — философ на лесной тропе"
("Вестник Самарской гуманитарной академии" 2009, отрывок)
В эпоху индустриализации и массового общества, тотального господства техники и нигилизма, одним словом, «постава» (Gestell) Хайдеггер сумел найти место, откуда раскрывался мир — не «другой», «лучший» или «более укромный», а мир как единая «четверица» (Geviert) неба и земли, смертного и божественного. Мир, который не предстоит субъекту как объект, не доступен для властного жеста распорядителя и не опутан транспортными и коммуникативными сетями; он молчаливо отвечает осмысляющему мышлению (Besinnung), являет себя в поэтическом слове (Dichtung) и питает укорененного, живущего в нем человека. Бытие и смысл бытия — философские слова для обозначения открытости мира. Мир не есть абстрактное пространство-вместилище, где бессмысленно громоздятся вещи. Мир — белый свет, простор, где есть близь и даль, — впервые дает вещам быть тем, что они суть, раздвигает пространство для вещей и событий.
Собственно мыслить и означает совершить шаг из представляющего субъект-объектного мышления в мышление другое, «послушное существу мира». Собственно мыслить и значит быть путем; осваивая пространство, быть там, где все на своем месте.
Итак, мышление не случайно понимается Хайдеггером по образу пути. А путь не случайно связан с ландшафтом, по которому шагает путник, и с местом, где он «строит, живет, мыслит». Действительно, встреча с философией Хайдеггера, с «мышлением о бытии» — это опыт, который у многих вызывает естественную догадку о скрытых в его текстах топографических схемах мысли. Так какой же представляется топология и топография мысли Хайдеггера?
Топографическая карта мысли Хайдеггера, скрытая в тексте философа, соотносится с лесным ландшафтом, точнее говоря, с местностью Шварцвальда. Этот ландшафт, конечно, — не предмет эстетического созерцания. Хайдеггер описывает мир, в котором он уединился, и вместе с тем — стихию своей мысли. Слово «стихия» употреблено здесь не случайно. Стихия указывает на первоэлементы, материю, природу. На нечто такое, во что в конечном счете упирается мысль, будучи не в силах совладать с ним, одухотворить, вывести на свет, набросить свою сетку координат, чтобы в конечном счете подчинить себе. Стихия указывает на нечто немыслимое в мысли, необособленное, неотделенное, потаенное. Человек живет в мире, живет на земле. И земля властно вторгается в его существо. Более того, она впервые предоставляет человеку место в мире. Можно сказать, для земли небезразлично, где развернется мир исторического бытия человека. «Власть земли», стало быть, состоит в том, что мир может стать «родиной». Одним из главных вопросов Хайдеггера в связи с феноменом мира до конца оставался вопрос: может ли мир, и если да, то как, стать для человека «родным» (heimatlich)?
Экзистирование в мире и на земле определяет характер Dasein, человеческого «бытия-в-мире». Отношение мира и земли не образует четкой системы координат, но представляет собой исторически меняющуюся взаимосвязь Земля — та утаивающая, самозатворяющаяся основа, на которой только и может «зиждиться» мир. Земля стремится наружу, произрастая лес, грибы, цветы и травы, корни которых уходят в почву. Мир, давая пространство для творческого труда, пойесиса, также нуждается в почве, на которой впервые может расцвести многообразие форм. Но отношение мира и земли двойственно. Они проникают друг в друга, и в то же время они противонаправлены, образуют «спор». Спор «открытия» и «затворения», игра явления и утаивания, расточения и хранения и есть верный признак «истины бытия». А потому, по мысли Хайдеггера, утрата феноменом земли своего смысла в эпоху современной тотальной техники означает не что иное, как отрыв мира от питающей основы земли, разрушение земли, на что последняя ответствует молчанием.
Почему для человека так важно это «затворение» (Bergung) земли? Хорошо известно, что Хайдеггер прочитывает истину (греч. aletheia) как «непотаенность». Однако вместе с тем истина толкуется как Lichtung — просвет в лесу. Тем самым философ говорит: все, что себя показывает, и в той мере, в какой оно себя показывает, себя скрывает. «Сокрытие» оказывается неотъемлемой частью «свершения истины». Если мы в горизонте нашего «бытия-в-мире» стремимся объяснить, разложить по полочкам все вещи, мы превращаем «открытость» в тотальность и забываем, что, по слову Гераклита, «природа любит скрываться». Превращая вещи в объекты, а мир — в исчислимую величину, мы лишаем их исконной связи с темной, глухой основой земли. Возможное и посильное для Dasein «утаивание» состоит лишь в воспроизведении «спора земли и мира», потому что «утаивание» есть только там, где земля и мир проникают друг в друга. Техника разрушает землю. Но искусство и, прежде всего, поэзия все еще способны беречь истину сущего.
Итак, Шварцвальд и, шире, немецкий лес — то место, откуда берет начало философствование Хайдеггера. Если ландшафт — это место-пребывание бытия, то стоит совершить усилие и попробовать войти в «мышление о бытии» с этой до-концептуальной стороны. Прежде всего, попробуем самостоятельно воспроизвести тот телесно-феноменологический опыт леса, который встроен в текст Хайдеггера и в свою очередь дает нам ценный герменевтический ключ к его мысли.
А. В. Михайловский
"Начало «Черных тетрадей»:
эзотерическая инициатива Мартина Хайдеггера"
("Социологическое обозрение" 2018, отрывок)
Заточение — коллективная форма существования das Man; побег — удел единичных людей, зависящий от некоего первичного выбора. Освобождение от оков происходит у Платона с помощью некой неведомой силы. И Хайдеггер тоже размышляет о той силе, без участия которой невозможно прийти к самому себе, к свободе и истине. Пока не принято решение, человеку предлагают себя различные суррогаты первого основополагающего выбора: 1) обычная рефлексия, 2) разговор между «Я» и «Ты», 3) осмысление ситуации, наконец, 4) разного рода идолопоклонство. Здесь не говорится о «подлинном» и «неподлинном» способе существования, Хайдеггер даже признает, что человек «видит самое само» через все названные способы. Однако бессилие тех суррогатов связано с неспособностью взорвать свою самость, поскольку рефлексия, диалог, осмысление ситуации, идолопоклонство все же вращаются вокруг «Я» как вокруг своего центра.
Душа должна пройти настройку «мужеством» (Mut): решение уже предполагает риск, а не рискнув, освободиться из оков нельзя. Долгое молчание — вот условие обретения силы и мощи языка. Но принесет ли оно плоды? Это риск. Еще одно условие — нарушение всех принятых шаблонов и схем, но отказ ходить по проторенным дорогам приведет к зарастанию этих путей-дорог. Нужна опять-таки смелость, чтобы увидеть в них всего лишь обходные пути, далекие от того, что уж не обойти (das Unumgängliche).
Одиночество в письмах и других эзотерических текстах Хайдеггера не одиноко: оно перекликается с темами проникновенности (Innigkeit), настойчивости/неотступности (Inständigkeit), собственного (das Eigene), радости и свободы (Freudigkeit и Gelassenheit), молчания (Schweigen). Это константы опыта жизни и мысли: как таковые они называются в небольшом эссе «Творческий ландшафт. Почему мы остаемся в провинции?» (1933). Здесь же мы находим и различение между одиночеством (allein sein) и уединением (einsam).
Из одиночества-уединения, противоположного одиночеству изолированного индивида, проистекают мгновения настоящего и стоящего творчества. Если коррелят первого — это максимальное сосредоточение на главном, то коррелят второго — общественная деятельность, которая приводит к «отказу… от наиподлиннейшего призвания мысли». Хайдеггер не только искал одиночества, но и жил в одиночестве. Не в смысле мудрого старца-отшельника, и не в смысле ученого, закрывшегося в башне из слоновой кости. Следование призванию не исключало общения в кругу семьи, с друзьями, избранными студентами и коллегами, сопровождалось открытостью и сердечностью (чему у него научился, в частности, Х.-Г. Гадамер). Но в философии его интересует только бытие, а не отношение людей друг к другу. Cущность человека — это далекая трансценденция.
Полезно иметь в виду, что знание для Хайдеггера — это не какой-то инвентарь определенных, постоянно пересматриваемых результатов исследований, а способность к вопрошанию и самоосмыслению ввиду истины бытия. Соответственно, и под «существенными решениями» понимаются не попытки повлиять на исторический процесс или некие «судьбоносные» ответы decision-makers на «глобальные» вызовы, а молчащее и одинокое «стояние в бытии». «Подлинные решения» приближаются сами, и по мере этого приближения всецело высвечивается «различение бытия и сущего», причем высвечивается «для немногих знающих».
А. В. Михайловский
Послесловие к эссе Эрнста Юнгера Уход в лес"
Эрнст Юнгер "Уход в лес", Ad Marginem, 2021 (отрывки)
Юнгер говорит о Waldgang’е и о Waldgänger’е не в контексте какой-то притчи, а со ссылкой на скандинавскую этимологию:
…это понятие уже имеет свою предысторию — старинное исландское слово. Мы понимаем его в расширительном смысле. Уход в Лес следовал за объявлением вне закона; этим поступком мужчина выражал волю к отстаиванию своей позиции собственными силами. Это считалось достойным тогда, и таковым остаётся и сегодня, вопреки всем расхожим мнениям.
Уход в Лес — отнюдь не идиллия скрывается за этим названием. Напротив, читатель должен быть готов к рискованной прогулке не только по проторённым тропам, но и, быть может, уводящей за пределы исследованного.
Какой же телесно-феноменологический опыт соответствует топосу Леса или, точнее сказать, германоскандинавского леса? Лес неотделим от гор средней высоты — он растет вверх во всех смыслах. Лес просматривается на сто-двести шагов — без сильного бурелома и валежника. Неспешным шагом путник идет вверх по дороге, с каждым витком идти становится всё труднее. Он останавливается передохнуть и оглядывается: в просвете открываются луга и стройные ряды елей на соседних вершинах. Лес объемлет собой все горы, расступаясь лишь далеко внизу на равнине. Дальше дорога делает поворот. Огибая вершину, путник через какое-то время видит место, которое он недавно миновал. Склон уходит вниз, и после каждого нового поворота можно видеть пройденный и лежащий внизу под ногами участок пути. И вдруг дорога внезапно обрывается прямо посреди леса. Здесь из поросшей мхами земли бьют ключи, которые образуют горные речушки и напитывает влагой плодородные почвы. Так выглядит лесная тропа (Holzweg) прокладываемая лесниками для своих нужд. Дальше — никаких следов человека, ни проторённой дороги, ни опознавательных знаков-засечек.
Holzweg — слово, связанное в новейшей немецкой философии и литературе с именем Мартина Хайдеггера. «Holzwege» (так называлась и первая послевоенная книга Хайдеггера, вышедшая в 1950 году) — это лесные тропы, «поросшие травой и внезапно обрывающиеся в нехоженом». «Нехоженое» — это область нетронутого, непродуманного, однако не в смысле «ещё не». Оно ускользает от человека, привыкшего к размеренному пространству и времени. Хайдеггер любил приглашать своих гостей, приезжавших к нему в хижину в Тодтнауберге, на прогулку по лесу до местечка Штюбенвазен. Ответвляющиеся от основной дороги лесные тропы, известные дровосекам и лесникам, были ведомы и философу.
Надеяться на успех в таком опасном предприятии как Уход в Лес можно лишь в том случае, если удастся опереться на «три великие силы — силы искусства, философии и теологии». Лес как воображаемый мифический топос обнаруживается везде — в лесах и пустынях, в больших городах, в снах и сновидениях; он является местом Великого перехода и знамением вечной жизни в образе «животворящего древа» Креста Господня.
В небольшом эссе «О боли» (1934) Юнгер поставил диагноз технической эпохе как эпохе совершенного нигилизма. Почему после прославления «стальных гроз» и «тотальной мобилизации», автор решил написать о боли? Вероятно потому, что он сумел разглядеть в ней «один из тех ключей, которыми размыкают не только самое сокровенное, но и сам мир». Когда меняется основное настроение эпохи, меняется и отношение человека к боли. Эпоха «масс и машин» грозит планете масштабной дегуманизацией, опредмечиванием всего и вся, притязаниями государств на тотальное господство. А это в свою очередь означает, что атаки боли нацелены на индивидуальность, на уникальную позицию мыслящего одиночки, единичного человека. Противостоять этим атакам человек может лишь в той мере, в какой он «способен изъять себя из самого себя», порвать с естественностью, отделить духовное от плотского. Утверждать в мысли и поступках собственное достоинство, поддерживать пыл сердца, сохранять суверенность и непринужденность — всё, что для Юнгера выражалось французским словом désinvolture — внутри романтических пейзажей уже невозможно. И хотя Юнгер называет это новое место свободы Лесом, он допускает, что Лес может находиться повсюду — как в пустоши, так и в городах, как в подполье, так и в государственных конторах, как в родном отечестве, так и в любой другой стране, где люди заняты сопротивлением. Ушедший в Лес, одиночка обретает в Лесу неподверженную разрушительной работе времени субстанцию, которая становится для него источником свободы, необходимой для того, чтобы сказать «нет».
«Уход в Лес, — учит Юнгер, — это не либеральный и не романтический акт, но пространство действия маленьких элит, тех, кто кроме требований времени сознает нечто большее». Ушедший в Лес способен противостоять тиранической власти с оружием в руках, защищая свою жизнь и жизнь своих ближних. Но это не главное. Главное — он способен преодолевать боль и страх смерти, вплотную соприкасаясь с ней. Последовавший этим путем открывает изобилие «вневременного бытия», место тишины и покоя. Встречаясь со смертью, единичный человек освобождается от случайно-исторической индивидуальности и встречается с «человеком вообще», разрывает каузальные связи титанического мира и заглядывает в «вневременное». Помочь человеку вернуться к себе может не философ, богослов или священник, а только поэт. В этом смысле Эрнст Юнгер все же остается верен большой романтической традиции, идущей от Гёльдерлина к Ницше, Георге и Хайдеггеру, традиции, выросшей из таинственной связи немца с Элладой и христианским платонизмом. Она создает грандиозное повествование об отношении Бога, мира и человека в его истории и отводит искусству и, прежде всего, поэзии спасительную роль в борьбе против «титанов», под какой бы маской они ни являлись.
"Мартин Хайдеггер — философ на лесной тропе"
("Вестник Самарской гуманитарной академии" 2009, отрывок)
В эпоху индустриализации и массового общества, тотального господства техники и нигилизма, одним словом, «постава» (Gestell) Хайдеггер сумел найти место, откуда раскрывался мир — не «другой», «лучший» или «более укромный», а мир как единая «четверица» (Geviert) неба и земли, смертного и божественного. Мир, который не предстоит субъекту как объект, не доступен для властного жеста распорядителя и не опутан транспортными и коммуникативными сетями; он молчаливо отвечает осмысляющему мышлению (Besinnung), являет себя в поэтическом слове (Dichtung) и питает укорененного, живущего в нем человека. Бытие и смысл бытия — философские слова для обозначения открытости мира. Мир не есть абстрактное пространство-вместилище, где бессмысленно громоздятся вещи. Мир — белый свет, простор, где есть близь и даль, — впервые дает вещам быть тем, что они суть, раздвигает пространство для вещей и событий.
Собственно мыслить и означает совершить шаг из представляющего субъект-объектного мышления в мышление другое, «послушное существу мира». Собственно мыслить и значит быть путем; осваивая пространство, быть там, где все на своем месте.
Итак, мышление не случайно понимается Хайдеггером по образу пути. А путь не случайно связан с ландшафтом, по которому шагает путник, и с местом, где он «строит, живет, мыслит». Действительно, встреча с философией Хайдеггера, с «мышлением о бытии» — это опыт, который у многих вызывает естественную догадку о скрытых в его текстах топографических схемах мысли. Так какой же представляется топология и топография мысли Хайдеггера?
Топографическая карта мысли Хайдеггера, скрытая в тексте философа, соотносится с лесным ландшафтом, точнее говоря, с местностью Шварцвальда. Этот ландшафт, конечно, — не предмет эстетического созерцания. Хайдеггер описывает мир, в котором он уединился, и вместе с тем — стихию своей мысли. Слово «стихия» употреблено здесь не случайно. Стихия указывает на первоэлементы, материю, природу. На нечто такое, во что в конечном счете упирается мысль, будучи не в силах совладать с ним, одухотворить, вывести на свет, набросить свою сетку координат, чтобы в конечном счете подчинить себе. Стихия указывает на нечто немыслимое в мысли, необособленное, неотделенное, потаенное. Человек живет в мире, живет на земле. И земля властно вторгается в его существо. Более того, она впервые предоставляет человеку место в мире. Можно сказать, для земли небезразлично, где развернется мир исторического бытия человека. «Власть земли», стало быть, состоит в том, что мир может стать «родиной». Одним из главных вопросов Хайдеггера в связи с феноменом мира до конца оставался вопрос: может ли мир, и если да, то как, стать для человека «родным» (heimatlich)?
Экзистирование в мире и на земле определяет характер Dasein, человеческого «бытия-в-мире». Отношение мира и земли не образует четкой системы координат, но представляет собой исторически меняющуюся взаимосвязь Земля — та утаивающая, самозатворяющаяся основа, на которой только и может «зиждиться» мир. Земля стремится наружу, произрастая лес, грибы, цветы и травы, корни которых уходят в почву. Мир, давая пространство для творческого труда, пойесиса, также нуждается в почве, на которой впервые может расцвести многообразие форм. Но отношение мира и земли двойственно. Они проникают друг в друга, и в то же время они противонаправлены, образуют «спор». Спор «открытия» и «затворения», игра явления и утаивания, расточения и хранения и есть верный признак «истины бытия». А потому, по мысли Хайдеггера, утрата феноменом земли своего смысла в эпоху современной тотальной техники означает не что иное, как отрыв мира от питающей основы земли, разрушение земли, на что последняя ответствует молчанием.
Почему для человека так важно это «затворение» (Bergung) земли? Хорошо известно, что Хайдеггер прочитывает истину (греч. aletheia) как «непотаенность». Однако вместе с тем истина толкуется как Lichtung — просвет в лесу. Тем самым философ говорит: все, что себя показывает, и в той мере, в какой оно себя показывает, себя скрывает. «Сокрытие» оказывается неотъемлемой частью «свершения истины». Если мы в горизонте нашего «бытия-в-мире» стремимся объяснить, разложить по полочкам все вещи, мы превращаем «открытость» в тотальность и забываем, что, по слову Гераклита, «природа любит скрываться». Превращая вещи в объекты, а мир — в исчислимую величину, мы лишаем их исконной связи с темной, глухой основой земли. Возможное и посильное для Dasein «утаивание» состоит лишь в воспроизведении «спора земли и мира», потому что «утаивание» есть только там, где земля и мир проникают друг в друга. Техника разрушает землю. Но искусство и, прежде всего, поэзия все еще способны беречь истину сущего.
Итак, Шварцвальд и, шире, немецкий лес — то место, откуда берет начало философствование Хайдеггера. Если ландшафт — это место-пребывание бытия, то стоит совершить усилие и попробовать войти в «мышление о бытии» с этой до-концептуальной стороны. Прежде всего, попробуем самостоятельно воспроизвести тот телесно-феноменологический опыт леса, который встроен в текст Хайдеггера и в свою очередь дает нам ценный герменевтический ключ к его мысли.
А. В. Михайловский
"Начало «Черных тетрадей»:
эзотерическая инициатива Мартина Хайдеггера"
("Социологическое обозрение" 2018, отрывок)
Заточение — коллективная форма существования das Man; побег — удел единичных людей, зависящий от некоего первичного выбора. Освобождение от оков происходит у Платона с помощью некой неведомой силы. И Хайдеггер тоже размышляет о той силе, без участия которой невозможно прийти к самому себе, к свободе и истине. Пока не принято решение, человеку предлагают себя различные суррогаты первого основополагающего выбора: 1) обычная рефлексия, 2) разговор между «Я» и «Ты», 3) осмысление ситуации, наконец, 4) разного рода идолопоклонство. Здесь не говорится о «подлинном» и «неподлинном» способе существования, Хайдеггер даже признает, что человек «видит самое само» через все названные способы. Однако бессилие тех суррогатов связано с неспособностью взорвать свою самость, поскольку рефлексия, диалог, осмысление ситуации, идолопоклонство все же вращаются вокруг «Я» как вокруг своего центра.
Душа должна пройти настройку «мужеством» (Mut): решение уже предполагает риск, а не рискнув, освободиться из оков нельзя. Долгое молчание — вот условие обретения силы и мощи языка. Но принесет ли оно плоды? Это риск. Еще одно условие — нарушение всех принятых шаблонов и схем, но отказ ходить по проторенным дорогам приведет к зарастанию этих путей-дорог. Нужна опять-таки смелость, чтобы увидеть в них всего лишь обходные пути, далекие от того, что уж не обойти (das Unumgängliche).
Одиночество в письмах и других эзотерических текстах Хайдеггера не одиноко: оно перекликается с темами проникновенности (Innigkeit), настойчивости/неотступности (Inständigkeit), собственного (das Eigene), радости и свободы (Freudigkeit и Gelassenheit), молчания (Schweigen). Это константы опыта жизни и мысли: как таковые они называются в небольшом эссе «Творческий ландшафт. Почему мы остаемся в провинции?» (1933). Здесь же мы находим и различение между одиночеством (allein sein) и уединением (einsam).
Из одиночества-уединения, противоположного одиночеству изолированного индивида, проистекают мгновения настоящего и стоящего творчества. Если коррелят первого — это максимальное сосредоточение на главном, то коррелят второго — общественная деятельность, которая приводит к «отказу… от наиподлиннейшего призвания мысли». Хайдеггер не только искал одиночества, но и жил в одиночестве. Не в смысле мудрого старца-отшельника, и не в смысле ученого, закрывшегося в башне из слоновой кости. Следование призванию не исключало общения в кругу семьи, с друзьями, избранными студентами и коллегами, сопровождалось открытостью и сердечностью (чему у него научился, в частности, Х.-Г. Гадамер). Но в философии его интересует только бытие, а не отношение людей друг к другу. Cущность человека — это далекая трансценденция.
Полезно иметь в виду, что знание для Хайдеггера — это не какой-то инвентарь определенных, постоянно пересматриваемых результатов исследований, а способность к вопрошанию и самоосмыслению ввиду истины бытия. Соответственно, и под «существенными решениями» понимаются не попытки повлиять на исторический процесс или некие «судьбоносные» ответы decision-makers на «глобальные» вызовы, а молчащее и одинокое «стояние в бытии». «Подлинные решения» приближаются сами, и по мере этого приближения всецело высвечивается «различение бытия и сущего», причем высвечивается «для немногих знающих».
А. В. Михайловский
Послесловие к эссе Эрнста Юнгера Уход в лес"
Эрнст Юнгер "Уход в лес", Ad Marginem, 2021 (отрывки)
Юнгер говорит о Waldgang’е и о Waldgänger’е не в контексте какой-то притчи, а со ссылкой на скандинавскую этимологию:
…это понятие уже имеет свою предысторию — старинное исландское слово. Мы понимаем его в расширительном смысле. Уход в Лес следовал за объявлением вне закона; этим поступком мужчина выражал волю к отстаиванию своей позиции собственными силами. Это считалось достойным тогда, и таковым остаётся и сегодня, вопреки всем расхожим мнениям.
Уход в Лес — отнюдь не идиллия скрывается за этим названием. Напротив, читатель должен быть готов к рискованной прогулке не только по проторённым тропам, но и, быть может, уводящей за пределы исследованного.
Какой же телесно-феноменологический опыт соответствует топосу Леса или, точнее сказать, германоскандинавского леса? Лес неотделим от гор средней высоты — он растет вверх во всех смыслах. Лес просматривается на сто-двести шагов — без сильного бурелома и валежника. Неспешным шагом путник идет вверх по дороге, с каждым витком идти становится всё труднее. Он останавливается передохнуть и оглядывается: в просвете открываются луга и стройные ряды елей на соседних вершинах. Лес объемлет собой все горы, расступаясь лишь далеко внизу на равнине. Дальше дорога делает поворот. Огибая вершину, путник через какое-то время видит место, которое он недавно миновал. Склон уходит вниз, и после каждого нового поворота можно видеть пройденный и лежащий внизу под ногами участок пути. И вдруг дорога внезапно обрывается прямо посреди леса. Здесь из поросшей мхами земли бьют ключи, которые образуют горные речушки и напитывает влагой плодородные почвы. Так выглядит лесная тропа (Holzweg) прокладываемая лесниками для своих нужд. Дальше — никаких следов человека, ни проторённой дороги, ни опознавательных знаков-засечек.
Holzweg — слово, связанное в новейшей немецкой философии и литературе с именем Мартина Хайдеггера. «Holzwege» (так называлась и первая послевоенная книга Хайдеггера, вышедшая в 1950 году) — это лесные тропы, «поросшие травой и внезапно обрывающиеся в нехоженом». «Нехоженое» — это область нетронутого, непродуманного, однако не в смысле «ещё не». Оно ускользает от человека, привыкшего к размеренному пространству и времени. Хайдеггер любил приглашать своих гостей, приезжавших к нему в хижину в Тодтнауберге, на прогулку по лесу до местечка Штюбенвазен. Ответвляющиеся от основной дороги лесные тропы, известные дровосекам и лесникам, были ведомы и философу.
Надеяться на успех в таком опасном предприятии как Уход в Лес можно лишь в том случае, если удастся опереться на «три великие силы — силы искусства, философии и теологии». Лес как воображаемый мифический топос обнаруживается везде — в лесах и пустынях, в больших городах, в снах и сновидениях; он является местом Великого перехода и знамением вечной жизни в образе «животворящего древа» Креста Господня.
В небольшом эссе «О боли» (1934) Юнгер поставил диагноз технической эпохе как эпохе совершенного нигилизма. Почему после прославления «стальных гроз» и «тотальной мобилизации», автор решил написать о боли? Вероятно потому, что он сумел разглядеть в ней «один из тех ключей, которыми размыкают не только самое сокровенное, но и сам мир». Когда меняется основное настроение эпохи, меняется и отношение человека к боли. Эпоха «масс и машин» грозит планете масштабной дегуманизацией, опредмечиванием всего и вся, притязаниями государств на тотальное господство. А это в свою очередь означает, что атаки боли нацелены на индивидуальность, на уникальную позицию мыслящего одиночки, единичного человека. Противостоять этим атакам человек может лишь в той мере, в какой он «способен изъять себя из самого себя», порвать с естественностью, отделить духовное от плотского. Утверждать в мысли и поступках собственное достоинство, поддерживать пыл сердца, сохранять суверенность и непринужденность — всё, что для Юнгера выражалось французским словом désinvolture — внутри романтических пейзажей уже невозможно. И хотя Юнгер называет это новое место свободы Лесом, он допускает, что Лес может находиться повсюду — как в пустоши, так и в городах, как в подполье, так и в государственных конторах, как в родном отечестве, так и в любой другой стране, где люди заняты сопротивлением. Ушедший в Лес, одиночка обретает в Лесу неподверженную разрушительной работе времени субстанцию, которая становится для него источником свободы, необходимой для того, чтобы сказать «нет».
«Уход в Лес, — учит Юнгер, — это не либеральный и не романтический акт, но пространство действия маленьких элит, тех, кто кроме требований времени сознает нечто большее». Ушедший в Лес способен противостоять тиранической власти с оружием в руках, защищая свою жизнь и жизнь своих ближних. Но это не главное. Главное — он способен преодолевать боль и страх смерти, вплотную соприкасаясь с ней. Последовавший этим путем открывает изобилие «вневременного бытия», место тишины и покоя. Встречаясь со смертью, единичный человек освобождается от случайно-исторической индивидуальности и встречается с «человеком вообще», разрывает каузальные связи титанического мира и заглядывает в «вневременное». Помочь человеку вернуться к себе может не философ, богослов или священник, а только поэт. В этом смысле Эрнст Юнгер все же остается верен большой романтической традиции, идущей от Гёльдерлина к Ницше, Георге и Хайдеггеру, традиции, выросшей из таинственной связи немца с Элладой и христианским платонизмом. Она создает грандиозное повествование об отношении Бога, мира и человека в его истории и отводит искусству и, прежде всего, поэзии спасительную роль в борьбе против «титанов», под какой бы маской они ни являлись.

Будьте в курсе наших новостей
Подпишитесь на рассылку
Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку персональных данных и соглашаетесь c политикой конфиденциальности